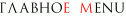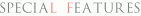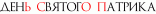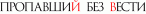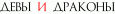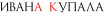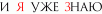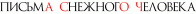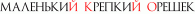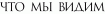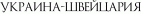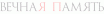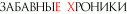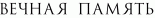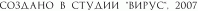Они плачут теперь уже не часто. В мае, разве что, когда им дарят табельные кустики сирени, кто-то что-то говорит – пусто, картонно и невкусно, а Лещенко или Кобзон поют про “… порохом пропах… со слезами на глазах…”. Стараются так, чтобы никто не видел, да вот не всегда это у них получается. Ну, да что ты тут поделаешь.
Лишь весной – в ЭТОТ день и несколько раз в год. Даты – кто–то, когда-то, именно в этот день…
…По перрону идут две девочки, взявшись крепко за руки, и женщина. Еще молодая, но с чужим и посеревшим лицом. У всех серьезные взрослые глаза, девочкам страшно и больно, но они стараются держаться. Только еще крепче сжимаются ладошки.
Одна, чуть повыше и постарше со светлыми волосами, вторая младше и немного ниже, смуглая с темными.
Женщина… Она ничего перед собой не видит, идет механически: шаг, переставила ногу, оттолкнулась от заплеванного перрона и снова шаг, переставила ногу…
Впереди идет железнодорожник и несет маленький гробик.
Детский.
Владик…
Во время бомбежки поезд очень сильно тряхнуло, подбросило. А он лежал на верхней полке. Сколько ему тогда было…
С того осеннего дня прошло много лет, но бабушка никогда не забывала о Владике, хотя внуку она ничего не рассказывала. Но я знал, что каждый раз – и в день рождения и в… день ухода она плакала. И дедушка плакал, и ничего они забыть не смогли, пока сами были живы. И каждый раз шепотом, прикрыв рот пальцами они проговаривали, что сейчас бы ему могло быть… Они никогда не называли имени – кто знает, тот поймет, а кто не знает, тому и знать нечего.
…Тяжело и протяжно бухали пушки. Уже близко. Поселок стоял пустым. Тактической, а, тем паче, стратегической ценности он, видимо, не представлял. Иначе бы и свои и чужие размолотили бы его «на трісочки». А так, отсиделись в погребе, дождались, пока те уйдут, а наши займут. Но бои, хоть какие-то – были. Когда они вылезли на двор, в поселке уже были наши – хмурые, уставшие и серьезные. Атакующие части, может быть и не самое острие, но и не разнузданные и осоловевшие тыловики. На местных внимания не обращали - еще не отошли от драки. Еще не вернулись в себя.
На брезенте несли раненого танкиста – искали то ли дом, то ли воду, и кричали – «Уберите ребенка! Уберите ребенка…» Наверное, это кричал врач: не хотел, чтобы ребенок увидел. Пятилетний пацан глядел исподлобья и жался «до бабусі». Ему было скорее страшно, чем интересно. Промелькнули пыльные сапоги, галифе и ватные штаны. Сжатые края края бурого брезента, провисшего под тяжестью. Свесившись, волочилась промасленная рука с отбитым ногтем на безымянном пальце.
И все – никто не узнал, что и как, кого несли - командира или простого солдата, выжил он или нет. Этот пацан тогда еще не знал, что его дядя – дядя Коля - сгорел в танке. Он тогда не знал, вернется ли папа с войны. Когда папа пришел осенью 45-го, сын в начале отца не узнал и расплакался…
А подбитая тридцатьчетверка еще долго стояла в конце улицы. Без колес и гусениц, только сама коробка и башня.
Про дядю Колю дедушка при мне никогда не вспоминал, впрочем, как и о войне вообще. Да и что мог спросить внук. Нет, я спрашивал, конечно. А он улыбался и гладил меня старыми узловатыми пальцами по голове: «Та я вже старий, я вже не помню…»
Они плачут теперь уже нечасто. Но глаза стариков прозрачны и кажется, что они полны слез, тех, которых им уже не выплакать при жизни.
Вот уже шестьдесят лет прошло со дня Победы. 21 900 дней. 525600 часов. 31 536000 минут. Для тех, кто был на войне, она не закончилась. Все это время.
Никто не забыт. Ничто не забыто.